№ 2/30, II.2019
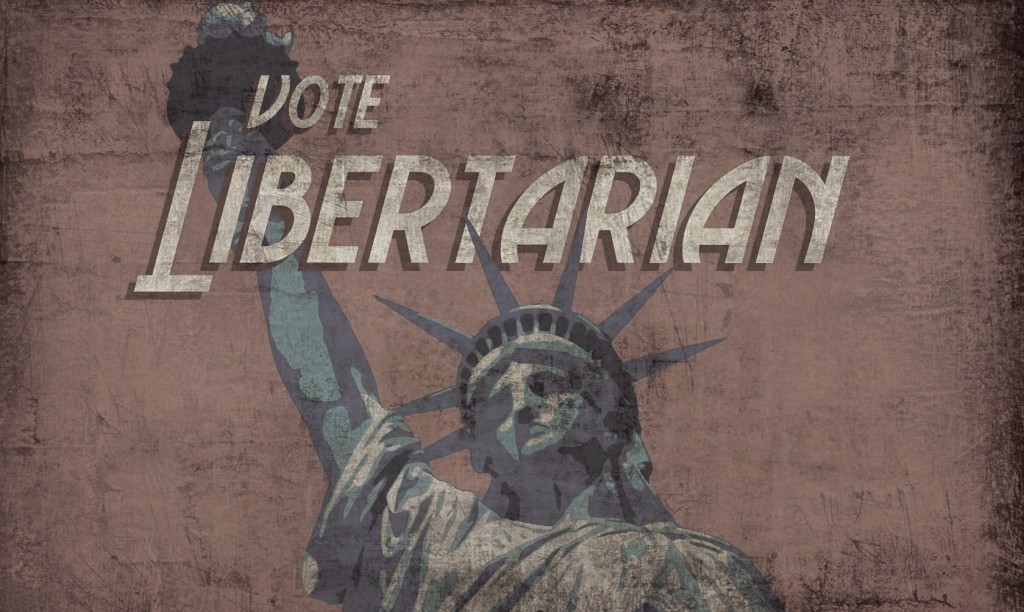
Практика есть критерий истины. Практический опыт человечества последнего столетия является неоспоримым доказательством того, что капитализм, как общественно-экономическая формация, давно завершил свою прогрессивную историческую «миссию», которая заключалась, в первую очередь, в организации крупного промышленного производства, и стал тормозом дальнейшего развития человеческого общества. Наряду с научно-техническим прогрессом, ставшим причиной бурного развития промышленного производства, оперативно внедрявшего в себя все его достижения, оставалась неизменной, тщательно хранилась в законсервированном состоянии, система производственных отношений и соответствующее ей политическое устройство общества. Эта неравномерность в развитии двух взаимосвязанных сторон общественной жизни достигла к началу XXI века таких масштабов, что породила не только очередной глобальный экономический кризис, но и предпосылки к его «логичному» следствию в виде очередной глобальной политической войны.
Подобное развитие событий, с одной стороны, является сильным катализатором процесса очищения мозгов обывателя от либерально-демократического хлама, накопленного за десятилетия пропаганды, и представляет собой естественную предпосылку для объединения пролетариата в организованный рабочий класс, с другой — заставляет господствующий олигархический класс принимать меры, чтобы максимально отсрочить или вовсе исключить политическое прозрение масс. Наиболее эффективным средством, как показывает история, является искусственное ограничение объема и качества тех знаний, которыми, по мнению господствующего класса капиталистов, должен владеть среднестатистический человек. Система «узкоспециализированного» образования, исключающая формирование целостной картины мира, религиозная пропаганда, в различных её формах, начиная от язычества и заканчивая «научно-популярным» миропониманием, обилие «развлекательного контента», призванного заполнить «нежелательные» временные пробелы между работой и сном в жизни современного наёмного раба — всё это в совокупности составляет фундамент идеологической крепости буржуазного строя.
Одновременно с этим не прекращается работа по «реабилитации» капиталистической системы в глазах населения и поиска объекта, который можно было бы обвинить во всех бедах современного мира. Ярким представителем «учений», преследующих данную цель, является либертарианство.
В основе либертарианской теории лежит несколько положений:
1) человек с рождения наделен естественными правами, а именно: правом собственности на себя (самопринадлежность) и правом свободно распоряжаться своим имуществом (незыблемость частной собственности);
2) принцип ненападения, постулирующий неправомерным любое посягательство на частную собственность человека, включая его тело;
3) государство — объект внеэкономического регулирования различных сфер общественной жизни, основанный на насилии и принуждении; является основным источником дестабилизации экономики, систематически нарушая принципы «свободного рынка»;
4) область действия государственной власти должна быть строго ограничена и направлена только на защиту естественных прав человека, перечисленных в 1-м пункте, либо государство должно быть упразднено полностью;
5) сферы, которые ранее полностью или частично были объектом государственного регулирования: система образования и здравоохранения, пенсионная и судебная система и т. п., должны быть приватизированы и работать по принципам рыночной экономики; государственная собственность, включая земельные владения, реки, озёра, леса и другие природные ресурсы должны быть переведены в частную собственность отдельных лиц.
Обосновывая свои взгляды, либертарианцы ссылаются на теорию естественных прав Дж. Локка. Так, Д. Берглэнд в своей книге «Либертарианство за один урок» пишет:
«Либертарианство основано на том, что в западной культуре было названо традицией „естественных прав“. Люди, подписавшие Декларацию независимости, были хорошо образованы, знакомы с этой традицией естественных прав и глубоко её принимали. Главным основоположником их философии и основного течения либертарианской мысли был мыслитель Джон Локк».
Ему вторит прославленный либертарианский «мыслитель» М. Ротбард:
«…именно локковская индивидуалистическая традиция в дальнейшем оказала глубокое влияние на американских революционеров и на господствующую традицию либертарианской политической мысли в революционной, новой нации. Именно на эту традицию либертарианства естественных прав пытается опираться данное сочинение».
Признавая Локка одним из основоположников своего учения, современные охранители частнособственнического уклада, однако, в буквальном смысле выдирают из его теории некоторые места, которые соответствуют целям их доктрины и беспрепятственно отбрасывают и отвергают всё, что в неё не вписывается.
Во-первых, описывая концепцию естественных прав, Локк указывает, что она применима к временному периоду, которое он называет «естественным состоянием»:
«Для правильного понимания политической власти и определения источника её возникновения мы должны рассмотреть, в каком естественном состоянии находятся все люди, а это — состояние полной свободы в отношении их действий и в отношении распоряжения своим имуществом и личностью в соответствии с тем, что они считают подходящим для себя в границах закона природы, не спрашивая разрешения у какого-либо иного лица и не завися от чьей-либо воли».
Во-вторых, Локк пишет, что на определенном этапе развития начинают формироваться политические сообщества и, следовательно, человек покидает «естественное состояние», с присущими ему «естественными правами»:
«Я утверждаю, что все люди естественно находятся в этом состоянии и остаются в нём до тех пор, пока по собственному согласию они не становятся членами какого-либо политического сообщества».
Если сопоставить данный тезис с исторической наукой, то становится понятно, что «естественное состояние», описываемое Локком, соответствует периоду первобытно-общинного строя и предшествующей ему истории древних людей, то есть периоду, когда общество, не разделённое на антагонистические классы эксплуататоров и эксплуатируемых, не нуждалось в политическом аппарате принуждения — государстве. Ввиду отсутствия государства, в этом обществе отсутствовала и система прав в её научном понимании, то есть совокупность юридических норм, регулирующих отношения людей и имеющих принудительно-обязательный характер исполнения, обеспеченный насилием. Регулирование отношений между людьми в первобытных общинах осуществлялось на иной основе — обычаях и традициях. Поскольку в них выражались объективные интересы общины в целом, то нарушение этих норм было редким явлением, ведущим, как правило, к ухудшению положения и состояния всех членов общины.
Понятно, что либертарианцы вряд ли хотят вернуться к первобытным общинам и неразрывно связанному с ними экономическому укладу, который не подразумевает никакой частной собственности. Зачем же глашатаи либеральной доктрины обращаются к данному аспекту теории Локка?
Общим местом в либертарианстве и учении Локка является, собственно, признание существования естественных прав, а также природный или божественный характер их происхождения. Причём, если Локк в своих работах говорит о личных свободах человека в отношении своих действий и распоряжения имуществом, то либертарианцы трактуют «естественные права» исключительно как права собственности. Извращённое мышление апологетов частной собственности даже моральные нормы и принципы, касающиеся жизни человека, неприкосновенности личности, свободы передвижения, свободы мысли и слова, рассматривает сугубо в контексте собственности человека на своё тело. И это неслучайно, таким образом идеологи либертарианской доктрины подводят своих адептов к мысли о существовании только одного «естественного права» — права частной собственности.
Бесцеремонно отбросив тезис Локка о конечности «естественного состояния», к которому применима его теория естественных прав, идеологи либертарианства в своих книгах пытаются убедить читателей в том, что на самом деле отношения частной собственности и связанное с ними право существовали всегда — независимо ни от времени, ни от общественного устройства, ни от чего бы то ни было ещё. Подобная идеалистическая трактовка прав заставляет авангард либеральной мысли искать ту сущность, которая их порождает, старательно избегая при этом факты и исследования историков-материалистов.
Под природным происхождением естественных прав либертарианцы подразумевают, что они являются объективным законом нашего мира, как бы «содержатся» в самой природе человека. Но тогда объективно должен существовать и природный механизм защиты этих прав, который бы включался после их нарушения. Многовековая история эксплуатации человека человеком, бесчисленных войн, в которых люди расставались как со своей жизнью, так и с собственностью, как минимум ставит под сомнение тезис о существовании какого-либо объективного, не зависящего от людей механизма «защиты» естественных прав. А если так, то само это право превращается в пустую декларацию, которая отражает лишь наивное представление либералов о том, «как оно должно быть», а не то, «как оно есть на самом деле». Именно по такому принципу написаны всевозможные билли, декларации и конституции буржуазных стран в частях, где в красках описываются права человека, но отсутствует механизм их реализации и игнорируется экономический строй.
Более того, либертарианцы пытаются выводить естественные права из сущности индивида, из отдельного человека как субъекта. Они игнорируют бесспорный факт, что человек не существует вне общества, что индивид есть частное проявление общества, но не наоборот. Природу человека можно понять только на основе объективных законов развития общества.
Часть либертарианцев, в расчёте на интеллектуальную неполноценность адептов своего «учения», просто заявляет о божественном происхождении прав собственности и предлагает принять этот тезис на веру, что автоматически снимает все дальнейшие вопросы и закономерно ставит либертарианскую доктрину в один ряд с другими священными писаниями. Вот, например, что пишет в своей книге «Либертарианство: история, принципы, политика» Д. Боуз:
«Как ясно утверждается в Декларации независимости, права не являются даром правительства. Они естественны и неизменны, присущи природе человека, и люди обладают ими в силу своей принадлежности роду человеческому, особенно в силу способности отвечать за свои действия. Даются ли права Богом или природой, в данном контексте не важно. Помните, первый абзац Декларации независимости говорит о „законах природы и её Творца“? Важно то, что права неотчуждаемы, т.е. они не даруются каким-либо другим человеком. В частности, они не даруются правительством; люди создают правительства, чтобы защищать права, которыми уже обладают».
Таким образом, заочно разрешив «основной вопрос философии» в пользу идеализма, передовые теоретики либеральной мысли закрывают дискуссию о происхождении отношений и прав частной собственности, дескать, есть они, и всё тут!
Но, как известно, «изобретение» человеком частной собственности, произошло далеко не сразу и имело под собой конкретные экономические предпосылки. Так, сугубо общественный, совместный характер трудовой деятельности первобытных людей: охоты, собирательства, постройки жилищ, расчистки и возделывания почвы — обуславливал общественную собственность на средства производства: на землю и леса для собирания пищи и охоты, на орудия производства и получаемые продукты.
Постепенный рост производительных сил и общественное разделение труда сильно увеличили производительность человека. Возросшая производительность, во-первых, привела к отмиранию первобытной общины и приходу на её место обособленных частнособственнических хозяйств, во-вторых, создала экономическую возможность эксплуатации человека путём изъятия прибавочного продукта. Частная собственность позволила отделить средства производства от непосредственных производителей: земледельцев, скотоводов, ремесленников, и сконцентрировать их в руках нового формирующегося класса — рабовладельцев.
Под негласным запретом упоминания среди всех либеральных деятелей и идеологов находится тот факт, что открытие частной собственности, т.е. узаконенного способа систематического ограбления людей, привело к появлению первых в мире государств и стало предзнаменованием всех будущих эксплуататорских формаций: рабовладения, феодализма и, наконец, капитализма.
Подобное положение вещей заставляет идеологов либертарианства в своих трудах избегать описания современных реалий капиталистического мира и обращаться к историческому периоду, когда отношения частной собственности еще только нарождались, носили стихийный характер и не проявляли в полной мере свою эксплуататорскую сущность. Этот, практически мимолётный в историческом плане, период — переходная фаза от первобытно-общинного строя к рабовладению. Так, Ротбард, используя эту уловку в своей книге, пытается одурачить своих читателей, представляя современное общество как некую совокупность индивидуальных частнособственнических хозяйств, где каждый человек имеет свободный доступ к средствам производства:
«Но человек — это не вольный сын эфира, он не есть нечто самодостаточное — для выживания ему приходится держаться за землю. Например, чтобы выжить, людям нужно стоять на земле, они должны перерабатывать природные ресурсы в потребительские блага, в предметы, необходимые и пригодные для жизни. Нужно выращивать продукты питания, добывать полезные ископаемые и превращать их в капитал и потребительские блага и т.д. Иными словами, человек должен владеть не только самим собой, но и материальными объектами, которые он использует».
Тот факт, что труд, т.е. целесообразная деятельность человека по преобразованию окружающей среды, предполагает наличие у человека определенных ресурсов и инструментов, т.е. средств производства, ещё далеко не говорит о том, что эти средства находятся в его собственности. Буржуазный низкопоклонник Ротбард скромно умалчивает о том, что наёмные работники, т.е. абсолютное большинство населения Земли в современном мире, полностью отчуждены от средств производства, в силу того, что большая часть всех производственных и природных ресурсов уже сконцентрирована в руках абсолютного меньшинства — олигархии, капиталистов крупного и среднего калибра.
Закрепленное юридически правом частной собственности и физически с помощью армии, полиции и чиновничьего аппарата, т.е. государственной машины, такое положение вещей оставляет для наёмного работника две альтернативы — либо самостоятельно продавать себя на «свободном рынке» капиталисту, по той цене и на тех условиях, которые будут выгодны для последнего, либо умереть от голодной смерти. И если Ротбард и другие прислужники олигархии называют это «добровольным сотрудничеством, основанном на взаимовыгодных условиях», то, будучи последовательным в своих рассуждениях, он с необходимостью должен был бы признать, что это «сотрудничество» выросло из «взаимовыгодности» отношений рабовладельца и раба, ведь у последнего был такой же, вполне себе «демократический» выбор: находиться в рабстве, либо умереть от голода или от меча своего хозяина.
Сознательно упуская во всех своих работах коренное различие личной собственности и частной собственности на средства производства, Ротбард вносит путаницу в головы своих читателей, прививает поверхностный подход к пониманию этих специфичных экономических явлений, который уже породил когорту либерально-настроенных идиотов, искренне верующих в то, что владение квартирой, телевизором или айфоном автоматически переводит людей если не в разряд полноценных капиталистов, то как минимум в разряд мелких буржуа.
Рассматривая отношения частной собственности, обходить стороной этот вопрос не позволяла совесть даже такому антисоциальному элементу, ярому антикоммунисту, адептом которого был Ротбард, Л. фон Мизесу:
«С экономической стороны, собственность никоим образом не может быть единообразной. Собственность на потребительские блага и собственность на средства производства различны во многих отношениях, так же как различны собственность на блага длительного пользования и собственность на блага, потребляемые одномоментно».
Но Ротбарду и другим нынешним воспевателям частной собственности, в силу «вредности» этого положения, подтачивающего самый фундамент либертарианской теории, выгодно упустить этот тезис, полностью исключить его из рассмотрения.
Негласное отождествление личной и частной собственности позволяет проповедникам либертарианства использовать единый подход к разрешению вопроса о «легитимном присвоении» человеком как потребительских благ, так и природных ресурсов, т.е. переводе их в частную собственность. Оправдывая свои пошлые измышления на этот счет, столпы либеральной мысли вновь ссылаются на философское учение Локка.
Бергланд пишет:
«Локк заложил основы нашего понимания собственности. Он показал нам, что „право первого поселенца“ — это источник прав на собственность. Когда человек приходит на никем не занятую землю, для того чтобы установить собственность на какую-либо ее часть, он должен „смешать труд с землёй“. Очевидным примером была бы расчистка земли от камней и подготовка её для ведения хозяйства.
Единожды приобретённая собственность подконтрольна владельцу, который может пользоваться ею по собственному усмотрению, и, что особенно важно, может не допускать к ней других. Концепция частной собственности продолжает оставаться центральной идеей в либертарианской политической философии».
Ротбард воспроизводит ту же мысль, рассматривая её в контексте собственности на землю:
«Обоснование собственности на землю в рамках концепции естественных прав ничем не отличается от того, как обосновывается владение любой другой собственностью. Ведь как мы уже видели, ни один производитель в действительности не „создает“ материи, он берет то, что находит в природе, и своей трудовой энергией преобразует это в соответствии со своими идеями и видением. Это же делает и пионер-первопоселенец, когда берет прежде неиспользовавшуюся землю в частную собственность».
Такой подход к определению «законности» частной собственности «идеален» в двух отношениях: во-первых, он не противоречит современному положению вещей, когда олигархическая прослойка владеет львиной долей всех ресурсов Земли, отчуждая от них всех остальных людей, во-вторых, даже согласившись с этим условием, оно не создаёт никакого реального механизма проверки легитимности присвоения собственности. Обывателю опять предлагают принять на веру, что собственность всевозможных дерипасок, вексельбергов, абрамовичей и их зарубежных «коллег» явилась продуктом нечеловеческого трудолюбия и усердия или первооткрывания, а значит её нужно уважать!
Локк, в отличие от либертарианских «теоретиков», понимая, что частнособственнические отношения неизбежно ведут к централизации и концентрации ресурсов в руках немногочисленной группы людей и, следовательно, отчуждению этих ресурсов от всех остальных, указывает меру собственности, которая в теории, могла бы ограничить этот процесс:
«Тот же закон природы, который таким путём даёт нам собственность, точно также и ограничивает размеры этой собственности… Человек имеет право обратить своим трудом в свою собственность столько, сколько он может употребить на какие-нибудь нужды своей жизни, прежде чем этот предмет подвергнется порче. А то, что выходит за эти пределы, превышает его долю и принадлежит другим…».
Но такое ограничение совершенно неприемлемо для идеологов либертарианства и их хозяев — олигархов, которые давно не занимаются никакой трудовой деятельностью, что не мешает им, однако, концентрировать в своих руках колоссальное количество ресурсов и благ. Понятно, что интенсивность труда современного капиталиста обратно пропорциональна размеру его капитала: если мелкий лавочник трудится не меньше пролетария, средний капиталист, как правило, хотя бы выполняет управленческие функции, то более-менее крупный буржуа просто не нуждается в этом: вся необходимая деятельность возлагается на плечи наёмных работников, руководимых наиболее привилегированной их частью — топ-менеджментом. Для самого же капиталиста в качестве «трудовой деятельности» предстаёт уже нечто совсем иное — борьба за сохранение и, по возможности, приумножение своего капитала за счет ограбления не только наёмных работников, но и разорения своих «товарищей по цеху», т.е. по-научному — конкуренция, причём конкуренция зачастую политическая.
Далее, Локк фактически описывает механизм естественной концентрации капитала в обществе, где господствует частная собственность, на примере земельных владений:
«…Смею открыто утверждать, что то же самое правило собственности, согласно которому каждый человек должен иметь столько, сколько он может использовать, могло бы по-прежнему сохранять силу в мире, не стесняя кого-либо… , если бы только не изобретение денег и молчаливое соглашение людей о придании им ценности не ввело (по соглашению) большие владения и право на них…
Очевидно, что люди согласились на непропорциональное и неравное владение землей, обнаружив благодаря молчаливому и добровольному согласию способ, посредством которого человек может честно иметь гораздо большее количество земли, нежели то, с которого он может использовать продукт; он состоит в том чтобы получать в обмен на свои излишки золото и серебро, которые можно накапливать без ущерба для кого-либо: эти металлы не портятся и не разрушаются в руках владельцев».
В этом рассуждении Локк указывает два фактора, которые создали возможность для концентрации ресурсов и благ: отношения частной собственности и изобретение денег, т.е. в более общем смысле товарное производство. Прибавив к этим двум факторам третий — наличие эксплуатируемой рабочей силы — рабов, крестьян или современных наёмных работников, результаты труда которых будут отчуждаться, в том числе посредством неэквивалентной оплаты способности к труду, владелец средств производства получает возможность неограниченно увеличивать свою собственность, т.е. присваивать себе все большее количество ресурсов, отчуждая от них всех остальных. Причём последнее невозможно без первого, т.е. для того чтобы стала возможна эксплуатация, нужно сначала отделить средства производства от трудящихся, т.е. утвердить в обществе отношения частной собственности, что, в свою очередь, невозможно без организованного аппарата насилия и подавления — государства.
Но эти рассуждения Локка и вытекающие из них выводы явно никак не согласуются с либертарианской теорией, поэтому приверженцы «свободного рынка» абсолютно свободно списывают их в утиль, дескать, не вписались они в современную экономическую теорию!
Завершая свою тираду о священной сущности частной собственности в книге «Власть и рынок», Ротбард, уже не стесняясь, делает такие чистосердечные профашистские признания:
«Ещё кое-что заслуживает быть отмеченным. Ведь права собственности не только являются важным составляющим прав человека, но в глубинном смысле нет вовсе никаких прав, кроме прав собственности. Короче говоря, единственным подлинным правом человека является право собственности. Это утверждение истинно в нескольких отношениях.
Во-первых, каждый человек от рождения хозяин самому себе, собственной личности. В истинно свободном обществе „человеческое“ право каждого человека — это в сущности, его право собственности на себя, из этого права собственности проистекает его право на продукты его труда.
Во-вторых, так называемые „права человека“ могут быть сведены к праву собственности, хотя во многих случаях этот факт осознается смутно. Возьмите, например, „право человека“ на свободу слова. Это право предполагает, что каждый человек может высказывать всё, что захочет. Обычно при этом упускают вопрос: где? Где человек имеет право высказываться? Во всяком случае, не на частной территории какого-либо постороннего человека. Короче говоря, он обладает этим правом только тогда, когда находится на собственной территории или на территории того, кто позволяет ему это делать — на основе договора о дарении или об аренде недвижимости. Таким образом не существует отдельного „права на свободу слова“; есть только право собственности: право свободно распоряжаться своей собственностью или вступать в договорные отношения с другими собственниками».
Не будем здесь подробно останавливаться на откровенной беззастенчивой лжи о том, будто бы в силу «собственности на себя» продукт, произведенный человеком, становится его собственностью. Очевидно, что отношения частной собственности предполагают диаметрально противоположный подход: весь производимый наёмным работником продукт присваивается капиталистом в полном объёме. Взамен наёмный работник получает подачку в виде заработной платы, размер которой заведомо меньше той цены, по которой будет реализован на «рынке», произведенный им товар . Но самое интересное в этом пассаже — не этот откровенный обман читателей, а те рассуждения, которые содержатся в последнем абзаце. В этих извращённых измышлениях наиболее чётко прослеживается то, что для Ротбарда так называемое «право собственности на себя» вторично, по отношению к праву владения «объективным» имуществом. Т.е. права человека на жизнь, на свободу слова и мысли, свободу передвижения и т.д. в «идеальном» либертарианском обществе работают тогда и только тогда, когда человек находится на принадлежащей ему территории! Из этой логики следует, например, что половина жителей Европы, треть населения США, десятая часть россиян, живущих в съёмном жилье, лишаются каких бы то ни было человеческих прав вообще, если только они специально не прописаны собственником в договоре аренды; наёмный работник, ежедневно находящийся на заводе или в офисе, т.е. на частной собственности работодателя, также лишается прав и может быть, к примеру, вполне «законно» убит, если собственник посчитает, что нахождение это человека на его территории является «актом нападения» на его владения. «Нет собственности — нет прав» — такова формула, лаконично отражающая суть «свободного» общества, к построению которого так активно призывают нас идеологи либертарианства.
Наряду с этими фашистскими заявлениями, Ротбард пугает своих читателей «ужасами этатистского коммунистического режима». Правда, вместо того чтобы кратко изложить выводы, сделанные Марксом и Энгельсом в их работах, хотя бы в первом приближении раскрыть понятие «коммунизм», Ротбард подсовывает своим адептам его собственное, рождённое больной фантазией автора представление о коммунизме:
«…Вторая альтернатива, которую можно бы назвать «коммунализмом прямого участия» (participatory communalism) или „коммунизмом“, исходит из того, что каждый должен иметь право на свою долю в каждом другом. Если на планете живут два миллиарда человек, тогда каждый владеет одной двухмиллиардной долей любого другого человека. Прежде всего следует отметить абсурдность этого идеала: каждый имеет право на долю в любом другом человеке, но при этом не имеет права на самого себя. Кроме того, несложно оценить жизнеспособность подобного общества, где никто не волен предпринимать никаких действий без предварительного одобрения или даже приказа со стороны каждого члена общества. В таком коммунистическом мире никто не сможет даже начать никакого дела, и род человеческий быстро вымрет…».
Далее следует не менее «блистательное» раскрытие концепции «общественной собственности на средства производства» и её неминуемое «опровержение» :
«…Перед нами опять возникают все те же три альтернативы: либо земля принадлежит тому, кто первым начал ее обрабатывать, либо она должна принадлежать группе людей, либо — человечеству в целом, так чтобы любой владел некой долей каждого акра. Генри Джордж выбрал последний вариант, вряд ли решив этим выбором свою этическую проблему: если земля должна принадлежать Богу или природе, то почему более морально приемлемо, чтобы каждый акр принадлежал всем людям, чем чтобы он находился в личной собственности? На практике очевидна невозможность такого положения, чтобы каждый человек в мире был эффективным собственником своей одной четырехмиллиардной доли (если население планеты, скажем, четыре миллиарда) каждого акра земной поверхности. На практике, конечно, контролировать и владеть будет горстка олигархов, а не человечество в целом».
По этим рассуждениям совершенно невозможно понять ни что такое «коммунизм», ни что такое «общественная собственность», но зато можно в полной мере оценить степень патологического влечения Ротбарда и остальных либеральных деятелей к тому, чтобы «взять всё и поделить» на части, т. е. превратить в частную собственность. Но извращенная, изуродованная «логикой» капитализма фантазия Ротбарда, видимо, не удовлетворившись частной собственностью на землю и другие природные ресурсы, пытается «примерить» частную собственность и в отношении человеческого общества, разделив каждого человека на «двухмиллиардные доли». И вот этот шизофренический бред Ротбард с умным видом проповедует среди своих читателей, поглядите, дескать, что такое коммунизм. С другой стороны, после того, как он «научно переработал» учение «основоположника либертарианской мысли» Локка, было бы трудно ожидать чего-то другого по отношению к Марксу: не в силах аргументированно оппонировать научному знанию, заложенному в марксистских трудах и подтвержденному всей общественно-исторической практикой, Ротбард вынужден прибегнуть к основным методам либеральной «науки», т.е. оболгать, извратить, выдать желаемое за действительное, иначе говоря, обмануть, прежде всего, своих же читателей.
Ротбард не понимает и не хочет понять, что отношения частной собственности, явившиеся основой рабовладения, феодализма и капитализма, историчны и на определенном этапе становления общества становятся той силой, которая ограничивает дальнейшее развитие производительных сил и человечества в целом. Искусственный характер насаждения человечеству отношений частной собственности, т.е. отношений, выстроенных на животных инстинктах и эгоистических интересах, становится всё очевидней, и чем больше людей осознают всю глупость, несуразность и разрушительность «рынка», «конкуренции» и «частной собственности», тем насущнее становится вопрос о научной обоснованной альтернативе общественного устройства, т.е. коммунизме. Общественная собственность на средства производства есть фундамент коммунистического общества, представляющий собой отрицание отношений частной собственности, и следовательно, не подразумевающий никакого деления и отчуждения:
«В системе частной собственности у капиталиста хватает ума лишь для того, чтобы тратить часть своего личного дохода на выплату „заработной платы“ своим наёмным рабам. При коммунизме каждому индивиду хватит ума, чтобы понимать, что вся планета Земля находится в его личной собственности, и никто из числа других индивидов не собирается каким-либо образом лишать его доступа к какой бы то ни было части планетарного богатства. Одновременно, каждый индивид при коммунизме будет понимать, что доступность планетарных богатств для него стала возможной лишь в силу совместного освоения этих сил всем человечеством по единой „технологической карте“.
Коммунистическим называется общество, осознающее себя жизненно важным элементом среды обитания человека, столь же необходимым как кислород, вода и т.п. Поэтому забота о пригодности общества для проживания в нем индивидов не будет противопоставляться заботе об окружающей среде, об условиях производства материальных благ. Впервые триада: человек — общество — природные условия существования, будет лишена антагонистических противоречий и объективная диалектика их взаимосвязей будет сознательно использована человеком».
Отсутствие антагонистических классов внутри коммунистического общества приведёт к естественному отмиранию порождённого этими антагонизмами аппарата организованного насилия и принуждения — государства.
Как известно, либертарианцы являются ярыми противниками государства и объявляют ему непримиримую войну. В своих книгах они обстоятельно излагают все свои претензии к государству: вмешательство в экономику, ведение агрессивной военной политики и т.п. Однако, на фоне этого подробнейшего изложения порочности государственной власти, которое, как правило, занимает большую часть любого либертарианского труда, совершенно блекло выглядит освещение идеологами либертарианства ключевого вопроса о происхождении государства. В их книгах нельзя найти ни малейшего намёка на попытку научного осмысления процесса развития государств, разобраться в его взаимосвязях с экономикой, понять, почему после буржуазных революций в Америке и Европе наряду с торжеством «свободного рынка» и «конкуренции» вырастали как грибы новые государственные образования, упрямо рос их чиновничий и военный аппарат.
Бергланд пишет:
«История развития государства (правительства) показывает, что этот институт возникает из завоевания. Одно племя или группа завоёвывает другое, накладывает оговорённую дань (налоги), взамен позволяя покорённым людям жить. Обычно правящее племя берётся защищать завоёванное от других мародёров. Такие отношения точнее будет определить не как „общественный договор“, а как рэкет или „крышу“.
…Действительность такова: общественный договор — это опасный миф. Следует признать правительство тем, что оно есть на самом деле — группой людей, имеющих в своём распоряжении существенную, и иногда даже смертельную власть. Они могут применять и применяют власть, чтобы управлять остальными гражданами».
Ротбард отстаивает ту же точку зрения:
«В Западной Европе, как и во многих других цивилизациях, государство обычно возникало не вследствие заключения добровольного общественного договора, а в результате завоевания одного племени другим. В результате первоначальная свобода племени или крестьянства становилась жертвой завоевателей. В ранние времена победившее племя убивало побежденных и уходило с добычей. Позднее победители решили, что выгоднее будет поселиться рядом с покоренным крестьянством, чтобы править им и грабить его на постоянной основе. Периодический сбор дани с покоренных крестьян в конце концов стал известен как налогообложение. С течением времени вожди племен раздавали земли крестьянства своим военачальникам, которые получили возможность зажить оседлой жизнью и собирать с крестьянства феодальную ренту. Крестьян часто обращали в рабов, вернее в крепостных, т.е. прикрепляли к земле, чтобы иметь постоянный источник доступного для эксплуатации труда».
Оба подвергают критике теорию «общественного договора», одним из наиболее известных представителей которой, между прочим, являлся «основоположник либертарианской мысли» Локк, который логически выводил её из всё той же печально известной теории «естественных прав». И хоть эта теория Локка и является грубым искажением действительности, всё-таки в ней присутствуют зерна объективной истины, которые представляют намного более ценный материал для изучения, нежели «завоевательно-племенная» теория современных идеологов либертарианства, особенно если учесть то, что процесс возникновения новых государств происходил и много позже, после того как общественные образования, именующиеся племенами, перестали играть сколь-нибудь значимую роль в истории.
Локк в своем трактате пишет:
«Если человек в естественном состоянии так свободен, как об этом говорилось, если он абсолютный господин своей собственной личности и владений, равный самым великим людям и никому не подчинённый, то почему расстаётся он со своей свободой, почему отказывается он от этой империи и подчиняет себя власти и руководству какой-то другой силы? На это напрашивается самый очевидный ответ, что хотя в естественном состоянии он обладает подобным правом, но всё же пользование им весьма ненадёжно и ему постоянно угрожает посягательство других. Ведь, поскольку все являются властителями в такой же степени, как и он сам, поскольку каждый человек ему равен, а большая часть людей соблюдает равенство и справедливость, поскольку пользование собственностью, которую он имеет в этом состоянии, весьма небезопасно, весьма ненадёжно. Это побуждает его с готовностью отказаться от такого состояния, которое хотя и является свободным, но полно страхов и непрерывных опасений; и не без причины он разыскивает и готов присоединиться к обществу тех, кто уже объединился или собирается объединиться ради взаимного сохранения своих собственных жизней, свобод, владений, что я называю общим именем „собственность“.
Поэтому-то великой и главной целью объединения людей в государства и передачи ими себя под власть правительства является сохранение их собственности…».
Таким образом, Локк фактически констатирует тот факт, что государство есть инструмент, созданный классом собственников для защиты своей собственности, для сохранения установившегося порядка вещей. С другой стороны, Локк исходит из ложной предпосылки, что общество, объединённое под государственной властью, состоит из одних только «собственников», и поэтому государство является выразителем интересов всего общества. Если же обратиться к истории, то становится очевидным, что помимо класса собственников, начиная с эпохи рабовладения, в обществе всегда существовал класс, от этой собственности отчужденный, и, следовательно, эксплуатируемый (даже в том широком смысле «собственности», который вкладывал в это понятие Локк). Стихийное осознание представителями угнетённого класса своего положения порождало периодические восстания и гражданские войны, помимо этого внутри класса «собственников» тоже шла постоянная грызня за право обладания наибольшим «куском пирога», т.е. то, что буржуазные идеологи применительно к эпохе капитализма назвали нейтральным словом «конкуренция». Чтобы снизить степень хаоса в таком обществе, основанном на звероподобных отношениях частной собственности, был введен институт не только для подавления эксплуатируемого класса, но и для упорядочивания и удержания «конкуренции» между особями класса паразитов в неких рамках «приличия» — государство.
Разумеется, либерал, прочитав это рассуждение, обвинит меня в передёргивании и попытке свести всё к классовой теории, заявив, что Локк писал совсем про другое. Что ж, не будем спорить и обратимся к «завоевательно-племенной» теории либертарианцев, возможно, она прольёт свет на «тайну» возникновения государств, предложит какую-то иную точку зрения. В своих трудах Ротбард при описании своей гипотезы происхождения государства ссылается на Ф. Оппенгеймера:
«Никто не описал насильственную и паразитическую природу государства с большей ясностью, чем великий немецкий социолог конца XIX века Франц Оппенгеймер. Он отметил, что есть два и только два взаимоисключающих способа разбогатеть. Первый — это путь производства и добровольного обмена, путь свободного рынка или, в терминологии Оппенгеймера, „экономические методы“, а второй — это путь грабежа и насилия, или „политические методы“».
Имея в виду, с какой «научной добросовестностью» Ротбард подходит к трудам других исследователей, с какой «поразительной» точностью передаёт он чужие мысли и выводы, абсолютной необходимостью становится обращение к оригинальной работе Оппенгеймера.
Уже в предисловии к своей книге «Государство» он пишет:
«Несколько видных этнологов … напали на основной принцип, сформулированный и раскрытый в этой работе, но они потерпели неудачу, поскольку их определение государства предполагает очень многое, что само по себе должно быть доказано. Они собрали большое количество фактов, доказывающих существование определенных форм правления и руководства еще до возникновения классов и сущность этих форм они определили как „государство“… Очевидно, что в любой группе людей, даже сколь угодно малой должна существовать власть, которая разрешает конфликты и в чрезвычайных ситуациях берёт на себя руководство. Но эта власть не есть „государство“, в том смысле, в котором я использую это слово. Государство может быть определено как организация одного класса, господствующего над остальными классами. Такая классовая организация может возникнуть только путём завоевания и подчинения одних этнических групп другой господствующей группой…».
Итак, Оппенгеймер, вопреки Ротбарду, утверждает, что государство является продуктом борьбы антагонистических классов, инструментом подавления одного класса другим, т.е. государство не является самостоятельной сущностью, противостоящей всему обществу, как это пытаются представить в своих книгах проповедники либеральных идей.
Описывая эпоху буржуазных революций Оппенгеймер отмечает:
«Система, основанная на обмене денег, развивается в капитализм и приводит к образованию новых классов, наряду с уже имеющимся классом феодалов. Капиталист требует равных прав с землевладельцем и, наконец, получает их, революционизируя низшие сословия. В этой атаке на священный укоренившийся порядок вещей, капиталисты объединяются с низшими классами, разумеется, под знаменем „естественного закона“. Но как только победа достигнута, класс буржуа, еще именуемый „средний класс“, направляет свое оружие на низшие классы, примиряется со своими бывшими противниками и призывает их к своей реакционной борьбе против пролетариев…
Господствующий класс ведёт эту борьбу [с другими классами] всеми средствами, которые ему предоставляет его господствующее положение. Вследствие этого, правящий класс следит за тем, чтобы законы соответствовали его интересам и служили его целям — классовое законодательство… Господствующий класс в любой стране использует государственную власть в своих интересах в двух аспектах. Во-первых, он оставляет за своими приверженцами все видные места и все влиятельные и прибыльные должности: в армии, в высших ветвях государственного аппарата, во-вторых, всеми этими органами он контролирует всю политику государства; эта классовая политика может быть причиной коммерческих войн, колонизации, протекционистских сборов, законов, в некоторой мере улучшающих положение рабочего класса, реформ в избирательной системе и т.п.».
Создаётся такое впечатление, что Ротбард просто выхватил единственную цитату, которая «вроде бы» подходит под его либертарианскую теорию, и, облегчённо вздохнув, навсегда закрыл книгу Оппенгеймера, так и не прочитав её ни разу до конца. Как иначе объяснить то, что Ротбард нигде не упоминает основной вывод Оппенгеймера про то, что именно классовая борьба является движущей силой развития любого классового общества, а государство есть лишь инструмент одного из этих классов, а вовсе не самостоятельная сила, действующая сама по себе?
Вразрез с «завоевательной» теорией идут и факты из истории становления древнейших государств. Так, если проанализировать опыт одного из наиболее отличившихся на поприще завоеваний государств древности — Ассирийской державы, то придётся признать, что она никогда не имела сильной государственной власти на завоеванных территориях, несмотря на то, что политика её правителей опиралась на зверское насилие и взимание дани с покоренных народов. С другой стороны, перед нами история двух древнейших государств, которые просуществовали не одно тысячелетие — Египет и Двуречье. Их властители довольно быстро догадались, что сила государства определяется не столько завоеванием, сколько укреплением отношений частной собственности на подвластной им территории. Экспроприировав наиболее ценный по тем временам ресурс — плодородные земли в долинах протекающих там рек, взяв под свой контроль систему ирригационных сооружений, они «изобрели» главный источник власти — частную собственность на средства производства.
Но что такое история и что такое Ротбард? Разве объективные исторические факты когда-то становились помехой для либеральных «теоретиков» в построении их фантастичных миров, существующих исключительно на страницах их книг и в их воображении? Вообще, это один из фундаментальных принципов либеральной «науки» — игнорирование фактов и отрицание познаваемости объективной действительности как таковое, что несколько роднит либеральных деятелей со средневековыми богословами. Если теологи на протяжении многих веков отрицали познаваемость мира, игнорируя тот факт, что античная наука уже познала и описала сущность многих явлений и принесла огромную пользу человечеству, то современные идеологи либертарианства, в частности экономисты австрийской школы, поставили своей главной целью доказать непознаваемость «рыночных отношений» после того, как Маркс выпустил в свет свой труд, в котором до мельчайших подробностей описал всю подноготную капитализма, в том числе и государство, как объективно необходимый элемент надстройки над производственными отношениями классового общества.
Покончив со «скучным» описанием действительности, в котором свои догадки и вымыслы всё-таки нужно как-то совмещать с реальностью, передовой отряд либертарианских «мыслителей» с головой окунается в родной мир мечтаний, где уже никто и ничто не сможет запретить им безмятежно фантазировать на тему того, как будет устроено их свободное безгосударственное классовое общество. Показательно, что самыми жаркими в либертарианской среде являются споры на тему того, как в их идеальном свободно-рыночном обществе, основанном на «добровольных взаимовыгодных отношениях» частной собственности, обеспечить порядок и не допустить закономерной войны всех против всех. Очевидно, провозглашение «принципа ненападения» является недостаточным условием для функционирования «свободного» общества.
Чтобы все беспрекословно соблюдали «свободу», Ротбард предлагает функции защиты собственности возложить на частные охранные предприятия, которые должны работать на «рыночной» основе, без каких-либо привилегий.
Весьма яркое описание «свободного» общества будущего, не требующее дополнительных комментариев, было представлено одним из адептов этого течения либертарианской мысли (анархо-капитализма):
«Приватизированная полиция (крыша) будет выполнять функцию страхования от агрессии каждого клиента. Она конкурирует с другими крышами и будет соблюдать определенный индустриальный стандарт (что-то типа частновыработанного сборника законов).
Приватизированные суды будут лишь выполнять функцию арбитража в тех редких случаях, когда обе крыши не смогут договориться между собой (ибо обращаться в суд более затратно, чем решать проблемы на „месте”). Крыши будут вынуждены выполнить решение суда, даже если они с ним не согласны, ибо в противном случае они потеряют репутации как те, которые не следуют стандартам.
Тюрем не будет (в современном виде), из-за их неэффективности. Тюрьмы сегодня просто содержат массу заключенных за счет налогоплательщиков. В свободном обществе частные компании будут принуждать агрессоров отплачивать причиненный ими ущерб частной собственности или личности других. Так как частная компания не заинтересована в содержании на своей шее агрессоров, провинившиеся сами будут зарабатывать себе на жизнь, при этом живя в несвободе, пока не отплатят нужную сумму.
К слову о национальной безопасности, в анкапе нет принудительной армии. Вместо этого, большие охранные агентства предоставляют услуги защиты от государств и других агрессоров. Возможно, даже с ядерным оружием. Защита такой страховки будет выше у границ с государствами и ниже вдали от них. Защита не должна быть сложной, так как частники заинтересованы в минимальных потерях на войне и, если оная начинается, крыши моментально высылают отряды, нацеленные лично на индивидуалов, ответственных за войну (из правительства) вместо того, чтобы воевать с большой армией государств. Это не похоже на то, что сегодня делают государства — те заинтересованы в полноценной реальной войне».
Другое течение — минархизм — исповедует уже известный нам Бергланд. Минархисты, над которыми смеются даже анархо-капиталисты, после «победы» над старым государством собираются строить … новое государство. В этот раз, правда, по заверениям Бергланда государство будет честным, ограниченным в своих функциях, направленным исключительно на защиту «естественных прав» частной собственности:
«Людей в правительстве надо рассматривать как представителей граждан. Функции государства должны быть ограничены помощью гражданам в защите их прав от любого лица или группы, которые эти права нарушают или угрожают им.
Следовательно, законы, карающие такие деяния, как убийство, изнасилование, кража, грабеж, растрата, мошенничество, обман, захват заложников, вторжение, загрязнение (форма вторжения), являются надлежащим использованием государственной силы, ибо такие деяния подразумевают нарушение чьих-то прав.
И напротив, любая деятельность, которая является мирной, добровольной и честной, должна быть свободна от наказаний или государственного вмешательства. Не должно быть, например, законов, наказывающих за уклонение от военной службы, за предложение на рынке востребованных потребителями товаров и услуг или за обладание собственностью, которую другие находят нежелательной».
То, что Бергланд половину своей книги посвятил описанию того, как подобное «минимальное» государство, образовавшееся после революции в США, каким-то «чудесным» образом разрослось до нынешних огромных размеров, погрязло в болоте бюрократии и военщины, его и других минархистов, видимо, совершенно не смущает.
Весьма популярной стала «теория» контрактных юрисдикций, по-видимому, снискавшая доверие либертарианцев количеством внутренних логических противоречий и самоопровержений:
«„Контрактные юрисдикции“ можно описать так — государства, точнее организации, поставляющие государственные услуги, лишившиеся своей территориальной монополии.
Вкратце, контрактные юрисдикции (как идея) понимают определённую необходимость насильственного вмешательства в действия индивидов для установления порядка. Она признаёт важность институтов, даже основанных на насилии, при этом определяет главную проблему государства, как явления вообще, не в его агрессивной природе и происхождении — но в неэффективности.
Контрактные юрисдикции — это идея демонополизации власти государства на конкретной территории. Контрактные юрисдикции не навязывают вам что такое хорошо, и что такое плохо, как это может делать либертарианство или консерватизм. Контрактные юрисдикции не считают государство априори „неэтичным“ и ненужным — они понимают, что на нынешнем этапе развития общества вполне возможно, что ещё требуется централизованный контроль и правовое единообразие. Но контрактные юрисдикции смотрят в будущее с надеждой на более эффективные меры регулирования общественных процессов. Они видят неповоротливость современных государств, излишнюю политизированность простых административных ресурсов, тенденцию к нео-тоталитаризму и нужду в разнообразии».
Признавая «важность институтов, основанных на насилии», не считая «государство априори „неэтичным“», эта «теория» противоречит, во-первых, самому либертарианству в самой его основе, во-вторых, принимая государство как полноценного рыночного «игрока», она предлагает «нерыночным» способом демонополизировать его, что, в свою очередь, противоречит идеям «свободного рынка». Неясным остается и тот факт, почему существующие на данный момент государства не «самоулучшаются» в ходе конкуренции между собой и почему эта же конкуренция внезапно заработает «как надо» применительно к контрактным юрисдикциям.
Как видим, эклектичность фундамента либертарианского учения во всей полноте отражается и в вытекающих из него «теориях» по преобразованию общества. Рассматривая в целом весь процесс развития либеральной «науки», венцом которой стало либертарианство и психологическая школа, приходится признать тот факт, что наиболее точную оценку ему дал Маркс еще в XIX веке, когда заметил, что весьма ценные в научном плане труды первых буржуазных экономистов постепенно замещаются работами, представляющими собой более или менее скрытую апологетику буржуазной системы. Остается лишь констатировать, что идеологи либертарианства максимально приблизились к пределу этого «развития», старательно исключив научный, познавательный элемент из своего учения и всецело посвятив его защите даже не капитализма как такового, а отношений частной собственности вообще.
Весьма показательны и методы, которые либертарианцы избрали для достижения своих целей: так, либертарианская партия США отважно сражается с государством на … государственных выборах, штурмуя 5-процентный рубеж в течение последних 30 лет, правда, пока безуспешно. Её «победоносный» опыт пытается повторить пока еще неокрепшая либертарианская партия России, признающая в своей программе выборы как важный инструмент для реализации либертарианских реформ и отважно сражающаяся в союзе с другими демократами за экономические свободы олигархов. Пропаганда либертарианских идей в России тоже во многом опирается на «мировую практику», если в США олигархия напрямую спонсирует университеты и другие образовательные учреждения для продвижения классово-верной политэкономической теории, то в России для выращивания «правильных» лидеров либеральной оппозиции существует целый ряд государственных институтов, один из которых, гордо именуемый «Высшей школой экономики», претендует на звание главного рассадника либертарианского мракобесия в РФ.
Таким образом, идеологи либертарианства последовательно, с высочайшей скрупулёзностью выполняют социальный заказ господствующих классов в укреплении монополии идеализма и обскурантизма в общественных науках, строго придерживаются основополагающих, фундаментальных целей всей либеральной доктрины: усердной проповеди священной и нерушимой сущности частной собственности и рьяной антикоммунистической пропаганды.
А пока стадо обывателей, вскормленное либеральными и либертарианскими бреднями, будет восторженно обсуждать воображаемые прелести частной собственности и конкуренции, буржуазное государство под лозунгами умственно-моральных уродов, взращённых на экономических факультетах всевозможных ВШЭ, будет уже сейчас беспрепятственно воплощать в жизнь такие либертарианские реформы, как отмена пенсий, социальных льгот, обязательного образования, уничтожение остатков системы здравоохранения путем перевода её на «рыночные рельсы», легализация проституции, наркотиков, азартных игр и прочих «достижений» свободного рынка и демократии…
С. Корельский
09/02/2019
Разгром! Лучи благодарности автору.
Уважаемый Иван. Хорошо бы понять, кто потерпел разгром? Либертарианцы? Они, что перестанут искать пути «усовершенствования» капитализма? Вся российская либеральная тусовка требует усиления либертарианства в РФ. К этому же призывает россиян и все мировое сообщество развитых рыночных стран. Все оппоненты Путина требуют возврата к ельцинским степеням свободы рынка (Кудрин, Чубайс, Греф, Набиулина и т.д.). Либертарианцев, как и любого сторонника капитализма, совершенно не интересуют последствия своего предпринимательства. Риск, т.е. деятельность с сомнительными результатами, является эталоном рыночной добродетели. Тем временем, страны НАТО двигаются, чем дальше, тем больше, по пути развития ВГМК. В частности, даже Украина, усилиями Порошенко сегодня искренне стремиться к торжеству ВГМК в этой стране. В данной статье объемно и подробно представлена точка зрения и сумма доводов, которыми пользуются либертарианцы в обоснование своей позиции, но отклик Вячеслава, прочитавшего данную статью, красноречиво свидетельствует, что, прочитав эту статью, можно прийти к выводу о том, что централизованное государство при капитализме, действительно, лучше. Меньше бардака. Правила, по которым тебя грабят более понятны и устойчивы. Можно приспособиться и выжить.
Добротная статья.
Если кратко, то проблему можно сформулировать так: возможно ли отмирание государства при капитализме? Для марксиста ответ очевиден.
Уважаемый «пилот», а мне представляется, что проблему либертарианцы формулируют не так: буржуазное государство должно, как цербер, стоять на страже результатов конкуренции и ни коим образом не мешать конкуренции свободных товаропроизводителей, их взаимному удушению экономическими методами. Государство должно преследовать тех, кто пытается помешать предпринимателям действовать так, как они считают нужным. Буржуазное государство должно предупреждать заказные убийства конкурента конкурентом, или наказывать тех, кто конкуренцию осуществляет с помощью киллеров. Либертарианцы никогда не выступали за отмену государства, а лишь за сжатие его функций до полицейских и внешнеполитических, в защиту своих национальных предпринимателей на внешних рынках.
Такое «сжатие» фактически и есть отмирание по сравнению с текущими государствами, где основная задача полиции держать в узде маргинализированный и деклассированный пролетариат. Главное на что они надеются — это отмирание классовой функции насилия и подавления. Т.е. что не будет классового угнетения и всё будет решаться через развитый рынок (в том числе и глобальный). Что империализм заменится рыночным глобализмом. Всё это конечно утопия, но она находит отклик у людей исповедующих буржуазное мировоззрение.
Уважаемый пилот, либертарианцы предлагают государству пресекать ЛЮБЫЕ попытки, любых социальных групп, начиная с пролетариев всех видов и не кончая маргиналами, пауперами и т.д. Никто не должен ничего советовать, навязывать предпринимателям, тем более, наёмные работники или безработные. Предприниматели имеют право увольнять и нанимать кого и сколько хотят, платить, сколько посчитают нужным, а государство не имеет права ничего советовать, регулировать цены на что бы то ни было, создавать какие-либо страховые и пенсионные фонды, за счёт налогов на предпринимателей. Либертарианство означает оставление за государством только карательных функций внутри государства и военных функций во вне. Предприниматели превращаются в класс недоступный для какого-либо воздействия, как со стороны недовольных предпринимателями, так и со стороны тех государственных деятелей, которые хотели бы проводить патернализм, ради социального мира. Либертарианцы стоят за максимизацию свободы ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ и только предпринимателей, а государство должно стоять на страже этой свободы против всех остальных классов и слоёв страны. Примерно так Екатерина II, в своё время ввела либертарианство для русских дворян.
Несмотря на то, что буржуазное государство является инструментом-орудием господствующего, буржуазного класса, это государство намного лучше, чем всевозможные частные организации , всякие там ЧОПы-мопы и т.д… Государство (пусть и буржуазное) имеет хоть какую-то централизацию, а все эти ЧОПы, настоящие беспредельщики, анархисты, и вообще наемники, за деньги готовые пойти на что угодно.
Уважаемые прорывцы, сегодня достаточно большое количество россиян стоят на точке зрения Вячеслава. это хорошо объясняет одну из причин, по которой россияне голосуют на выборах за нынешний состав Думы и за президента РФ. Что современные марксисты могут сказать по этому поводу? Думаю, что эта тема так же важна, как проблема либертарианства, если не важнее.